В издательстве “Медузы” (признана в России нежелательной организацией) выходит книга историка и сооснователя проекта Russian Independent Media Archive Ильи Венявкина “Храм войны”. Это биографии девяти публичных людей, которые, как считает автор, сделали возможным вторжение России в Украину. В их числе, вполне ожидаемо, — Александр Дугин, Маргарита Симоньян и Николай Патрушев. Но в этом списке нашлось место и сатирику, и священнику. А технократы, без которых российская экономика вряд ли сумела бы продемонстрировать такую устойчивость, оказались представлены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. С разрешения издательства публикуем отрывок главы о ней. Предзаказ на книгу уже открыт.
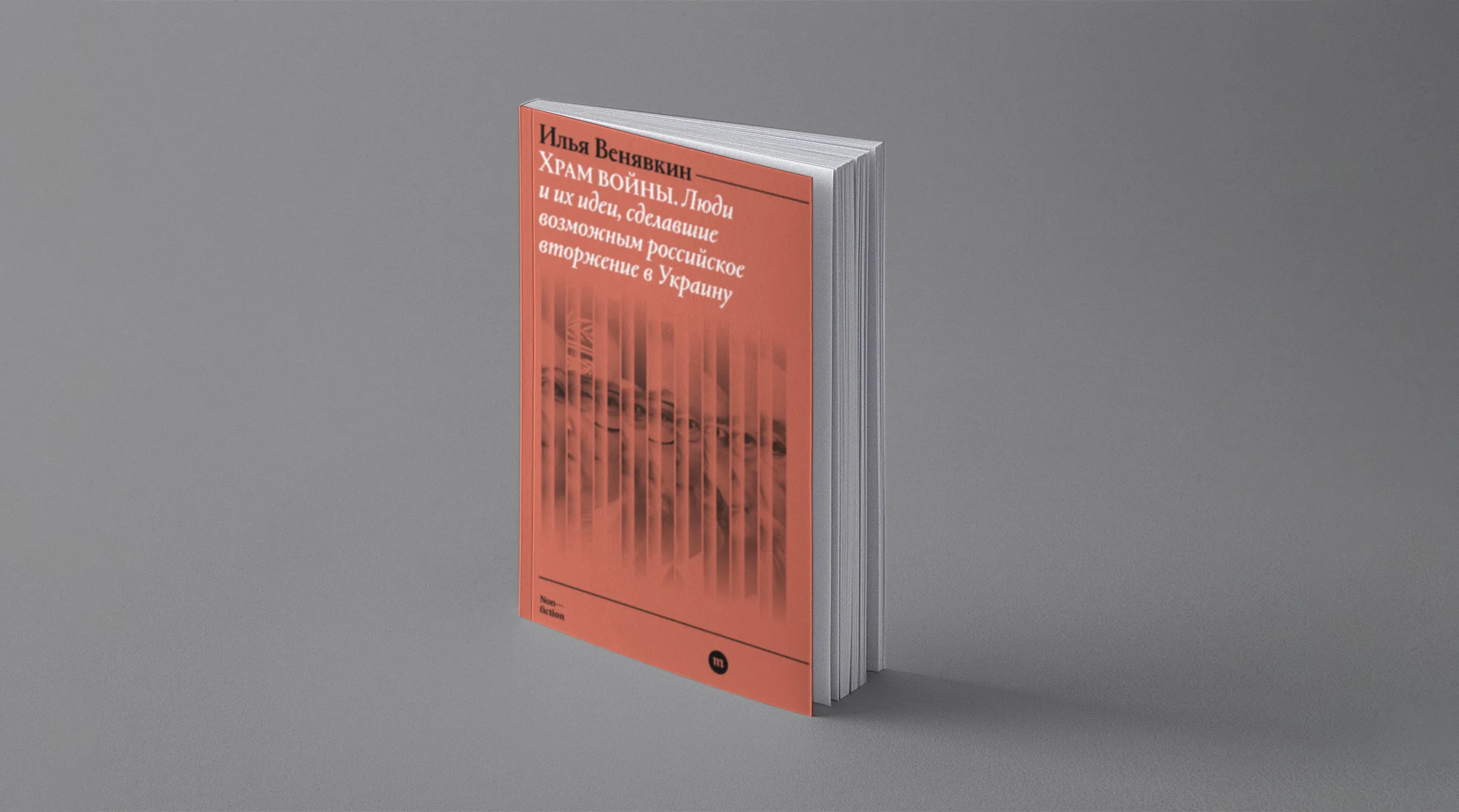
Превращение службы государству в нравственный долг было в конце 1990-х центральной темой обсуждения для либеральных экономистов и их сторонников. За месяц до манифеста Путина близкий друг Чубайса и Гайдара Алексей Улюкаев опубликовал текст с программным названием “Правый поворот”. Поворачивать нужно было в сторону от прежних демократических идеалов. Пережив серию неудачных попыток реформ, либеральные экономисты уверились в том, что демократия, ограничивающая власть президента, может быть только источником опасности: в 1992 году депутаты-лоббисты тормозили гайдаровские инициативы, в 1993-м оппозиционный парламент чуть не развернул политический курс на 180 градусов, потом популисты из ЛДПР не дали реформаторам сформировать партию власти, в 1996-м из-за выборов пришлось отложить все и заниматься спасением рейтинга президента и так далее. Демократы, коммунисты, промышленники и олигархи на протяжении всего ельцинского времени ослабляли власть президента и не давали провести единственно верные радикальные реформы. Теперь с этим можно было покончить. Улюкаев писал о том, что власть должна быть сильной и правильной, а будет она демократической или монархической — уже не важно. Главное — быть патриотом. “Мы привязаны навеки к этой огромной и прекрасной стране и вырвемся из нее не иначе, как вырвав с тем и кусок собственного сердца”, — нагнетал автор.
“Правый поворот” по сути завершал дискуссию о целях и средствах, которая шла в кругу реформаторов все десятилетие. Придя в правительство во время распада СССР, экономисты из круга Егора Гайдара столкнулись с задачей, которую до этого еще никому не приходилось решать. Им нужно было провести огромную страну через тройной переход — от плановой экономики к рынку, от партийной диктатуры к демократии и от многонациональной империи к национальному государству. В каком порядке следовало совершать этот переход? Чему отдать приоритет? В силу своего образования (все они начинали как экономисты-марксисты) и положения (писали речи и программы для политической элиты) они поначалу сделали выбор в пользу рыночной трансформации: главное — построить рынок, а все остальное произойдет само собой. Но рынок, который мог бы решить все проблемы, никак не возникал.
Особенно болезненным стал дефолт 1998 года. Внешние шоки и непродуманная государственная политика привели к тому, что за полгода рубль подешевел по отношению к доллару больше чем в три раза, многие предприятия и банки разорились, вкладчики потеряли рублевые сбережения, а с ними — и доверие к экономистам-рыночникам. Правительство молодых реформаторов во главе с Сергеем Кириенко не получило достаточной защиты ни от одной из сторон, на которые они рассчитывали: ни от президента Ельцина, ни от олигархов, ни от международного сообщества. Премьера и его министров уволили (ушла и Набиуллина), а реформаторы стали мечтать о сильной руке, которая снимет с них всю политическую ответственность и даст мандат на проведение преобразований. Одним из образцов такой сильной руки был чилийский диктатор Аугусто Пиночет. В 1970-е годы он расправился с социалистической и коммунистической оппозицией в Чили, пригласил команду технократов и провел рыночные реформы. Через месяц после дефолта в главной деловой газете страны “Коммерсант” вышло интервью с Пиночетом. Стареющий диктатор на пенсии советовал россиянам: “У вас многие привыкли жить на халяву. <...> Нужно менять менталитет”. Пиночет рассказывал, что шел на жесткие меры, но никогда не вмешивался в работу реформаторов: “А результат? Вон за окном порт. Корабли загружены нашими продуктами, предназначенными на экспорт. Раньше мы всегда импортировали пшеницу”.
Получив мандат на подготовку проекта реформ для Путина, ЦСР лихорадочно принялся за дело: просьбу присылать свои предложения разослали в сотню научных организаций, пригласили иностранных консультантов, начали серию семинаров по разным аспектам экономической политики. Эльвира Набиуллина, судя по всему, играла в этих процессах ключевую роль как человек, сводящий все предложения по структурной трансформации экономики в связную программу. К концу мая 2000 года программа была готова.
Греф с коллегами предложили установить новый социальный контракт, осуществить реформу власти и провести модернизацию экономики. Так же, как в манифесте Путина и тексте Улюкаева, речь шла о том, что в обществе должна случиться моральная революция, в рамках которой доверие между людьми и государством будет восстановлено и все вместе начнут продуктивно работать на благо страны. За итоговый текст Греф отвечал вместе с Набиуллиной.
Чтобы не сковывать себя формальными ограничениями, Путин не стал официально принимать программу ЦСР, но предложил ее авторам министерские посты. Греф возглавил Министерство экономического развития и торговли. Набиуллина стала его заместителем с фокусом на институциональные реформы. Ключевой союзник Грефа Алексей Кудрин был назначен министром финансов, своим заместителем он сделал Улюкаева.
Реформы начались на невероятно благоприятном фоне: экономика России быстро восстанавливалась после дефолта благодаря дешевому рублю, цены на нефть стремительно росли (в 1999 году они падали до 10 долларов за баррель, а в 2000-м держались в районе 30), рейтинг Путина оставался высоким, парламент почти не сопротивлялся и не мешал принимать жесткий бюджет с сокращенными социальными расходами. Летом 2000 года правительство провело первую реформу — ввело плоскую шкалу подоходного налога в 13%. Идея выглядела рискованной, потому что грозила стране дефицитным бюджетом, но в итоге оказалась невероятно успешной: собираемость налогов поднялась, и бюджет вырос. По итогам года ВВП увеличился на 10% — на 2% больше, чем требовалось, чтобы начать догонять Португалию.
В июле 2000 года Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он специально говорил о налоговой реформе, но окружил экономические вопросы более широким контекстом: “Вопрос стоит гораздо острее и гораздо драматичнее. Сможем ли мы сохраниться как нация, как цивилизация, если наше благополучие вновь и вновь будет зависеть от выдачи международных кредитов и от благосклонности лидеров мировой экономики?” За экономический блок речи отвечали Набиуллина и советник Путина Андрей Илларионов. На следующий год роль Набиуллиной в подготовке послания стала еще значительнее. Она почти не спала две ночи, чтобы доработать текст в “прогрессивно-либеральном тоне”. Правда, узнать об этом смогли только журналисты газеты “Ведомости” — благодаря своим источникам в правительстве. Сама Набиуллина публично политику не комментировала, все слова произносил Путин.
Набиуллина и другие экономисты-реформаторы согласились с ролью исполнительных профессионалов, которые работают на достижение конкретных целей. “Я действительно чувствую себя технократом, временно пришедшим во власть для того, чтобы попытаться устроить более рационально государство и сделать так, чтобы потом, когда я уйду из этой государственной власти, мне было проще в этом государстве жить”, — объяснял журналистам Греф. Сферу политического они оставляли Путину — в их глазах за этим стояли не цинизм и безразличие, а героика самоотречения.
Лучше всего такую установку суммировал Анатолий Чубайс. В 2003 году он выступил на съезде СПС с зажигательной речью: “Конечно, вы знаете, что именно 12 лет назад, в 1991 году, как раз на вершине развитого социализма, нас позвали, чтобы спасти страну от массового голода. Это известный факт, но чуть менее известен тот факт, что это именно наших отцов в 1941 году, когда Сталин уничтожил весь цвет Советской Армии, позвали защищать Родину. Совсем плохо известен тот факт, что еще раньше Александр II, когда ему нужно было проводить земельную реформу в России и освобождать крестьян, позвал нас, а не кого бы то ни было. А еще раньше Петр I, когда ему нужно было строить великий город и закладывать основы новой России, нас позвал для этого. Так было всегда, потому что всегда, когда в стране нужно что-то создавать, строить, наводить порядок, решать, отвечать за свои решения, преодолевать, добиваться цели, то есть делать, зовут нас, потому что мы — люди дела, потому что мы в России были, есть и будем!”
Совсем скоро реформаторы убедились, что у этого контракта с государством есть и негативная сторона. 25 октября 2003 года сотрудники ФСБ арестовали Михаила Ходорковского — владельца “ЮКОСа”, самой эффективной нефтяной компании и одного из крупнейших налогоплательщиков России. Ходорковского обвинили в хищении имущества и уклонении от уплаты налогов. Возмущенный Чубайс собрал представителей бизнеса и подготовил вместе с ними заявление, адресованное президенту. Все они увидели в аресте Ходорковского подрыв того социального контракта, о котором Путин говорил в 1999 году: “Грубые ошибки власти отбросили страну на несколько лет назад и подорвали доверие к ее заявлениям о недопустимости пересмотра результатов приватизации”.
Путин призвал “прекратить спекуляции и истерики” и сказал, что во всем разберутся правоохранительные органы. Слова, которые он произносил, были неотличимы от манифестов реформаторов, мечтавших о диктатуре закона: “Иначе мы никого не научим и не заставим платить налоги и отчисления в социальные фонды, в том числе и пенсионные, [и тогда] нам никогда не переломить оргпреступность и коррупцию”. Правда, представления о диктатуре закона у президента были специфические. В декабре 2004 года 77% крупнейшего актива “ЮКОСа”, компании “Юганскнефтегаз”, было продано по заниженной цене никому не известной “БайкалФинансГруп”. Через три дня за 10 тысяч рублей “БайкалФинансГруп” была куплена “Роснефтью” — государственной компанией под управлением Игоря Сечина, близкого соратника Путина, занимавшего должность замглавы президентской администрации.
Набиуллина арест Ходорковского никак не комментировала, но не могла не знать об ужасе, в который эти события повергли ее коллег. Ее ближайшая университетская подруга Ирина Ясина работала одним из руководителей организованного Ходорковским фонда “Открытая Россия” и не скрывала своего возмущения произволом властей. “Правила игры не соблюдаем, ничего толкового в сфере бизнеса не делаем, только мешаем. Государство — замечательно было сказано, по-моему, Салтыковым-Щедриным — расположилось в России, как оккупационная армия. <...> Пограбить и убежать”, — говорила Ясина.
К этому моменту Набиуллина уже не работала в правительстве — она вернулась в ЦСР, чтобы готовить для Путина экономическую программу к следующим выборам. Большинство экспертов сходилось во мнении, что заявленные реформы начали буксовать. Очевидные успехи в сфере стабилизации (снижение госдолга, инфляции, появление профицитного бюджета) сочетались с провалом в тех сферах, от которых зависела диверсификация экономики (судебная реформа, снижение роли силовиков, развитие собственного технологичного производства).
О том, что атмосфера страха плохо сочетается с экономическим ростом, в ЦСР говорили открыто. В декабре 2004 года Центр провел конференцию “Экономические реформы: российская повестка дня и мировой опыт”. На ней Кудрин заявил, что таких высоких темпов роста, как в последние годы, в России больше не будет, а другие экономисты отмечали, что бизнесу приходится работать в ситуации “презумпции виновности”. “Реформаторы проиграли силовикам, реформы остановлены, экономический рост прекратился, причем надолго”, — подвели итог конференции в “Коммерсанте”.
Окончательно перспективы реформ похоронил провал монетизации льгот в 2004—2005 годах. Идея реформы принадлежала Кудрину — чтобы навести порядок в бюджете, он предложил заменить многочисленные льготы на прямые выплаты. Многие льготники, обманутые предыдущими реформами, приняли эту идею в штыки. По стране начались забастовки, рейтинг Путина упал до 65% — недопустимо низкого для него значения. Кудрину пришлось публично извиняться за ошибку и отыгрывать назад.
Эта ситуация должна была быть особенно неприятной для Путина потому, что Россия в этот момент купалась в нефтяных сверхдоходах и могла залить любую проблему деньгами. Так Путин и решил действовать. Начиная с 2005 года он вместо реформ предпочитал делать ставку на “национальные проекты”. По этой схеме он мог сам выбрать проект или задачу и выделить подконтрольному ему игроку деньги на их реализацию. Во многом это напоминало советскую систему ударных строек, только участниками двигали не энтузиазм или государственное насилие, а желание обогатиться.
В 2007 году Набиуллина вернулась в правительство. К этому моменту разговоры о структурных реформах уже сошли на нет. Она сменила на посту министра экономического развития и торговли Германа Грефа — тот ушел заниматься перестройкой Сбербанка, крупнейшего государственного банка страны. “Денег слишком много, уже можно и не менять ничего. В таких условиях работать невозможно”, — объяснял он свое разочарование. Набиуллина пришла продолжать то, что начал Греф, без особой надежды на успех, просто чтобы не стало еще хуже. Ей не всегда это удавалось.
Кудрин вспоминал, как в 2008 году Путин собрал экономических чиновников на совещание, чтобы обсудить саммит АТЭС-2012 — экономический форум во Владивостоке, на который должны были собраться главы и представители стран Тихоокеанского региона. В рамках путинской логики нацпроектов при подготовке к саммиту предлагалось закачать деньги в Дальневосточный регион, который по своему развитию сильно проигрывал соседнему Китаю. Решение принимало не правительство, а Совет безопасности. Возникла также идея провести саммит на острове Русский и для этого построить на нем университет. Проблема заключалась в том, что на острове не было никакой подходящей для этого инфраструктуры — не существовало даже моста, который соединял бы его с городом. Стоимость стройки оценивалась в 100 миллиардов рублей, а смысл этой инвестиции оставался туманным. Альтернативным вариантом было просто отреставрировать уже имевшийся университет в городе. Этот план первоначально поддерживала Набиуллина, но когда дело дошло до совещания с Путиным, она не решилась ему возражать. В результате стройку перенесли на остров.
Неспособные настоять на структурных реформах либеральные экономисты пригодились Путину в ситуации, когда возникли настоящие трудности. Еще в 2007 году в США начался ипотечный кризис, в 2008-м он перекинулся на остальной мир. Цена нефти марки Brent упала со 147 долларов за баррель до 34. По аналогии с 1998 годом инвесторы стали ждать дефолта российской экономики. В этот раз его не случилось: правительство влило в экономику сотни миллиардов рублей, которые специально для такого случая были отложены в Стабилизационный фонд. Это помогло примерно за год справиться с масштабным кризисом, но в результате усилило зависимость экономики от государства. Структурные проблемы это тоже не решило — Россия по-прежнему очень сильно зависела от цен на нефть. Через год они снова выросли почти до 80 долларов, но рост ВВП замедлился. Ни о каких 8% в год речь больше не шла, догнать Португалию не получалось.
То, что и экономика, и реформы буксуют, политическое руководство страны вполне понимало. В мае 2008 года Путин передал президентское кресло своему другу Дмитрию Медведеву, а сам занял пост премьер-министра. Когда борьба с финансовым кризисом закончилась и нужно было начинать снова думать про будущее, Медведев опубликовал манифест “Россия, вперед!”. В нем новый президент риторически спрашивал: “Должны ли мы и дальше тащить в наше будущее примитивную сырьевую экономику, хроническую коррупцию, застарелую привычку полагаться в решении проблем на государство, на заграницу, на какое‑нибудь „всесильное учение“, на что угодно, на кого угодно, только не на себя?” И отвечал: нет. В качестве выхода предлагались строительство “умной” экономики и демократизация общества. Все это нужно было делать постепенно, избегая революционных потрясений.
Еще через полтора месяца Медведев сделал новое программное заявление. В своем блоге — а президент-модернизатор теперь использовал интернет, чтобы общаться с гражданами — он опубликовал видеообращение в День памяти жертв политических репрессий: “До сих пор можно слышать, что эти многочисленные жертвы были оправданы некими высшими государственными целями. Я убежден, что никакое развитие страны, никакие ее успехи, амбиции не могут достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни”. Медведев говорил про историю, но аудитория восприняла его сообщение как реплику в споре о современных преобразованиях. Новый президент по сути утверждал бесперспективность авторитарной модернизации в стране.
Слабым местом Медведева оказалось то, что по сложившимся правилам игры он мог реформировать только те сферы, где не нарушил бы интересы ключевых игроков — близких к Путину силовиков. Такими сферами были цифровизация и инновации. Через две недели после поста про репрессии он выступил с посланием Федеральному собранию Российской Федерации и объявил об организации “мощного центра исследований и разработок”: “Речь идет о создании современного технологического центра, если хотите, по примеру Силиконовой долины и других подобных зарубежных центров. Там будут формироваться условия, привлекательные для работы ведущих ученых, инженеров, конструкторов, программистов, менеджеров и финансистов”. Этим центром стало Сколково. Медведев вряд ли об этом думал, но его идея “кармана эффективности” больше всего походила на логику сталинской шарашки, когда государство бросало неограниченные ресурсы на то, чтобы добиться прогресса в разработке высоких технологий, не реформируя остальное общество.
В январе 2010 года члены правительства, включая Набиуллину, отправились на специально организованный для них семинар по инновациям в Массачусетский технологический институт — ведущий профильный американский университет. “Хотелось понять, почему у них получается, а у большинства других стран — и в России тоже — нет”, — рассказывал журналисту “Ведомостей” помощник Медведева Аркадий Дворкович. По результатам поездки MIT и Сколково договорились о сотрудничестве. Вскоре в поле за МКАДом начали строить инновационный центр. По поручению Медведева Набиуллина разработала специальный закон, устанавливающий для центра особый правовой режим: государство попыталось ограничить само себя, чтобы не мешать себе создавать инновации.
В июне 2010 года в Москве прошла конференция, посвященная десятилетию экономической программы Грефа и ЦСР. Авторы программы собрались, чтобы подвести итоги своей работы. С одной стороны, они должны были быть довольны — только что закончилось самое выдающееся десятилетие в российской экономической истории, не считая НЭПа 1920-х. Никогда еще на памяти жителей страны они не богатели так сильно и так стабильно. С другой стороны, даже по оценкам самих реформаторов, выполнить задуманное им удалось на 36%. К невыполненным целям относились победа над коррупцией, создание независимых судов, избавление от сырьевой зависимости. Более того, нельзя было сказать, что эти реформы провалились случайно. Нереализованные 64% программы касались концептуального ядра путинской власти.
Российский политолог Владимир Гельман называет возникший в эти годы политический и экономический порядок “недостойным правлением”. Его отличают такие черты: извлечение ренты превратилось в главную цель управления; все ключевые решения завязаны на фигуре президента, а остальные игроки лишены автономии; формальные институты работают, только если не мешают извлечению ренты; за ренту друг с другом соперничают неформальные клики. За десять лет в стране окончательно был сформирован кумовской капитализм для своих, и без радикальной политической реформы исправить его не получалось.
Что скажете, Аноним?
[11:45 08 февраля]
[22:38 07 февраля]
[10:40 06 февраля]
13:00 08 февраля
12:30 08 февраля
12:00 08 февраля
11:00 08 февраля
10:00 08 февраля
09:30 08 февраля
09:00 08 февраля
08:30 08 февраля
[11:45 30 января]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.